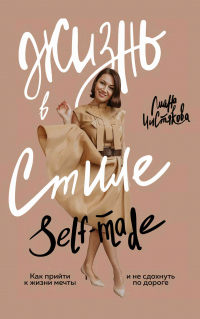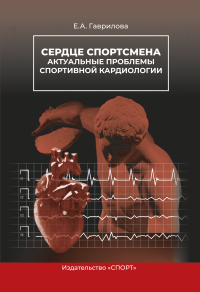Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В своих произведениях известный детский писатель рассказывает о жизни современных мальчишек и девчонок, о сложных жизненных ситуациях, в которые понадают герои, о том, как важно для людей взаимопонимание. Для младшего и среднего школьного возраста. Рис. Т. Прибыловской.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Карпович Железников»:
![Ночной ветер[сборник] - Владимир Карпович Железников](/uploads/posts/books/2850/2850.jpg)